История
Как корейцы появились в России. Адаптация корейцев в Российской империи
Переселение первых корейцев на Дальний Восток России началось почти сразу после включения Приамурья в состав Российской империи по Айгунскому договору 1858 года и Приморья — по Пекинскому трактату 1860 года. Основным мотивом миграции стала тяжелая экономическая ситуация в Корее. Она была тесно переплетена с политическими обстоятельствами: народ испытывал жестокий гнёт со стороны властей, что вынуждало многие семьи искать безопасность и новые возможности на российских территориях.
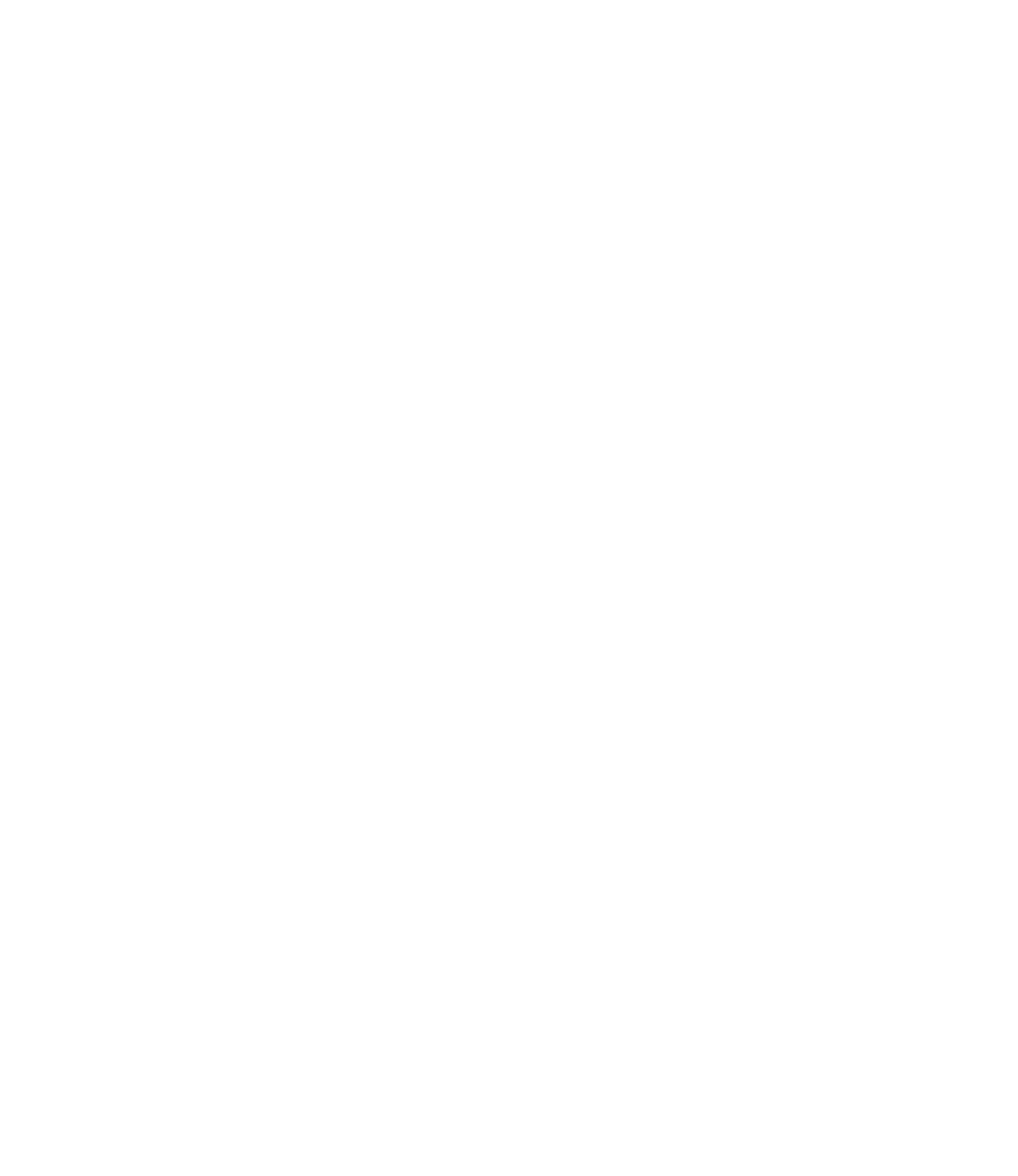
Карта Уссурийского края, составленная Н.М. Пржевальским в 1870 году.
Попадая в Россию, первые переселенцы из Кореи сразу же оказались в центре внимания властей. Игнорировать столь многочисленный приток иноземных мигрантов было невозможно. Перед администрацией остро встал вопрос: как поступить с корейцами — препятствовать их заселению или, напротив, содействовать ему?
Первый вариант быстро отпал. Остановить поток переселенцев было практически нереально — границы оставались открытыми, а средств для их контроля не хватало. К тому же Дальний Восток нуждался в освоении, и трудолюбивые переселенцы могли сыграть в этом важную роль. Поэтому второй путь — разрешение на заселение — оказался наиболее разумным и прагматичным решением.
Отношение русских властей к корейской миграции в разные годы менялось. Одни видели в корейцах трудолюбивых земледельцев, способных оживить экономику окраин, другие опасались, что успешное расселение приведёт к тому, что Приморье со временем станет «не русским, а корейским». Так, генерал-губернатор П. Ф. Унтербергер называл корейцев «жёлтой угрозой».
Между тем и со стороны самой Кореи эмиграции также чинили препятствия — местные власти были недовольны оттоком населения и сокращением налогооблагаемой базы.
Первый вариант быстро отпал. Остановить поток переселенцев было практически нереально — границы оставались открытыми, а средств для их контроля не хватало. К тому же Дальний Восток нуждался в освоении, и трудолюбивые переселенцы могли сыграть в этом важную роль. Поэтому второй путь — разрешение на заселение — оказался наиболее разумным и прагматичным решением.
Отношение русских властей к корейской миграции в разные годы менялось. Одни видели в корейцах трудолюбивых земледельцев, способных оживить экономику окраин, другие опасались, что успешное расселение приведёт к тому, что Приморье со временем станет «не русским, а корейским». Так, генерал-губернатор П. Ф. Унтербергер называл корейцев «жёлтой угрозой».
Между тем и со стороны самой Кореи эмиграции также чинили препятствия — местные власти были недовольны оттоком населения и сокращением налогооблагаемой базы.
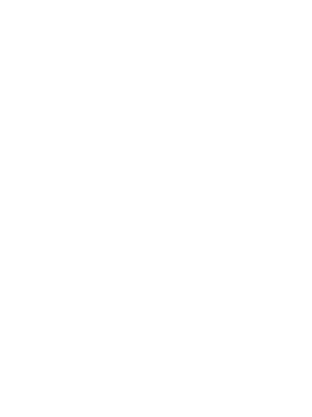
Павел Федорович Унтербергер - Приморский губернатор (1888-1897), Приамурский генерал-губернатор (1905-1910)
Расселение и адаптация корейцев в Российской империи
Расселение корейцев на территории Российской империи происходило крайне неравномерно. В одних местах они жили вперемешку с русскими, в других — создавали компактные и замкнутые поселения, изолированные от остального населения края. В этих изолированных районах корейцы сохраняли традиционный уклад жизни, язык и культуру, поддерживая привычный образ быта, близкий к родине.
Причин такого обособления было несколько. Главная из них — непрекращающаяся массовая миграция из Кореи, которую российские власти не успевали регулировать. Администрация Дальнего Востока имела ограниченные ресурсы, и потому контроль над переселенцами был минимален. Как отмечал исследователь В. В. Граве, «контроль над корейцами ничтожен. Они оставлены на произвол судьбы, ведут обособленную жизнь».
Одним из самых ярких примеров компактного расселения стал Посьетский участок Приморья, расположенный на юге, у самой границы с Кореей. Здесь доля корейского населения превышала 96 процентов. Однако по мере продвижения к северу плотность их поселений заметно снижалась.
Широта территории Российской империи и отсутствие продуманной политики закрепления переселенцев способствовали тому, что часть корейцев постепенно покидала Дальний Восток, переселяясь в Сибирь, европейскую часть России и Среднюю Азию. Первые корейцы появились в Средней Азии ещё во второй половине XIX века, но их число оставалось незначительным. По данным переписи 1897 года, в Туркестанском крае проживало всего трое корейцев — в Кокандском и Наманганском уездах.
Тем временем на Дальнем Востоке в 1860–1890-х годах активно формировалась устойчивая корейская община. Помимо изолированных поселений, корейцы селились и в городах, например во Владивостоке, где теснее общались с русским населением и быстрее осваивали элементы русской культуры.
Подавляющее большинство корейцев составляли бедные крестьяне. Постоянный приток новых переселенцев из Кореи препятствовал накоплению благосостояния. Некоторые приезжали лишь на заработки, однако большинство стремилось обосноваться в России навсегда и получить гражданство.
В 1891 году Приамурский генерал-губернатор барон Корф издал распоряжение, разделившее корейцев на три категории.
Испокон веков образование занимало особое место в жизни корейцев. Даже на новой земле они стремились дать детям возможность учиться.
Однако, оказавшись в составе Российской империи, переселенцы столкнулись с политикой русификации. Большинство из них происходило из северных провинций Кореи и говорило на хамгёнском диалекте, который существенно отличался от литературного сеульского языка. Со временем именно этот диалект стал основой корё мар — уникальной языковой формы корейцев СНГ, сохранившей черты корейского языка XV века.
Изучение русского языка стало для переселенцев жизненной необходимостью. Как писал Н. Насекин, «если целью русского правительства является быстрое и прочное ассимилирование инородцев, то главным средством для этого должна быть русская школа». Уже в 1866 году генерал-губернатор Восточной Сибири выделил средства на открытие в гавани Посьета особой школы для обучения детей переселенцев русскому языку.
Русскоязычное образование на Дальнем Востоке представляли государственные, церковно-приходские и миссионерские школы. Корейцы охотно стремились к учёбе, понимая, что знание языка открывает путь к лучшему положению в обществе. Особенно это касалось тех, кто жил бок о бок с русскими.
В начале XX века благодаря усилиям просветителей, антияпонских деятелей и поддержке корейской общины, в каждом корейском селе действовала школа. К 1917 году на Дальнем Востоке не осталось ни одного поселения без начального обучения.
Тем не менее, образование не стало массовым. Основными препятствиями были нехватка средств, дефицит квалифицированных учителей и изолированное расселение корейцев.
Наряду со школой важную роль в просвещении играла православная церковь. Священники, часто являвшиеся единственными грамотными людьми в деревнях, совмещали функции духовных наставников и учителей. Просвещение корейцев тесно переплеталось с миссионерской деятельностью. Обучение русскому языку нередко сопровождалось принятием православия. Как писал Н. М. Пржевальский, «важным средством обрусения корейцев должна стать православная пропаганда».
Так постепенно формировалась особая ветвь русско-корейского взаимодействия — слияние образовательных, культурных и духовных традиций, положившее начало уникальной истории российской корейской диаспоры.
Расселение корейцев на территории Российской империи происходило крайне неравномерно. В одних местах они жили вперемешку с русскими, в других — создавали компактные и замкнутые поселения, изолированные от остального населения края. В этих изолированных районах корейцы сохраняли традиционный уклад жизни, язык и культуру, поддерживая привычный образ быта, близкий к родине.
Причин такого обособления было несколько. Главная из них — непрекращающаяся массовая миграция из Кореи, которую российские власти не успевали регулировать. Администрация Дальнего Востока имела ограниченные ресурсы, и потому контроль над переселенцами был минимален. Как отмечал исследователь В. В. Граве, «контроль над корейцами ничтожен. Они оставлены на произвол судьбы, ведут обособленную жизнь».
Одним из самых ярких примеров компактного расселения стал Посьетский участок Приморья, расположенный на юге, у самой границы с Кореей. Здесь доля корейского населения превышала 96 процентов. Однако по мере продвижения к северу плотность их поселений заметно снижалась.
Широта территории Российской империи и отсутствие продуманной политики закрепления переселенцев способствовали тому, что часть корейцев постепенно покидала Дальний Восток, переселяясь в Сибирь, европейскую часть России и Среднюю Азию. Первые корейцы появились в Средней Азии ещё во второй половине XIX века, но их число оставалось незначительным. По данным переписи 1897 года, в Туркестанском крае проживало всего трое корейцев — в Кокандском и Наманганском уездах.
Тем временем на Дальнем Востоке в 1860–1890-х годах активно формировалась устойчивая корейская община. Помимо изолированных поселений, корейцы селились и в городах, например во Владивостоке, где теснее общались с русским населением и быстрее осваивали элементы русской культуры.
Подавляющее большинство корейцев составляли бедные крестьяне. Постоянный приток новых переселенцев из Кореи препятствовал накоплению благосостояния. Некоторые приезжали лишь на заработки, однако большинство стремилось обосноваться в России навсегда и получить гражданство.
В 1891 году Приамурский генерал-губернатор барон Корф издал распоряжение, разделившее корейцев на три категории.
- Первая категория — переселившиеся до июня 1884 года, получали право на русское подданство и земельные наделы.
- Вторая категория — прибывшие после этой даты, подлежали выселению в Корею.
- Третья категория — временные переселенцы, которым разрешалось проживать лишь по специальным билетам.
Испокон веков образование занимало особое место в жизни корейцев. Даже на новой земле они стремились дать детям возможность учиться.
Однако, оказавшись в составе Российской империи, переселенцы столкнулись с политикой русификации. Большинство из них происходило из северных провинций Кореи и говорило на хамгёнском диалекте, который существенно отличался от литературного сеульского языка. Со временем именно этот диалект стал основой корё мар — уникальной языковой формы корейцев СНГ, сохранившей черты корейского языка XV века.
Изучение русского языка стало для переселенцев жизненной необходимостью. Как писал Н. Насекин, «если целью русского правительства является быстрое и прочное ассимилирование инородцев, то главным средством для этого должна быть русская школа». Уже в 1866 году генерал-губернатор Восточной Сибири выделил средства на открытие в гавани Посьета особой школы для обучения детей переселенцев русскому языку.
Русскоязычное образование на Дальнем Востоке представляли государственные, церковно-приходские и миссионерские школы. Корейцы охотно стремились к учёбе, понимая, что знание языка открывает путь к лучшему положению в обществе. Особенно это касалось тех, кто жил бок о бок с русскими.
В начале XX века благодаря усилиям просветителей, антияпонских деятелей и поддержке корейской общины, в каждом корейском селе действовала школа. К 1917 году на Дальнем Востоке не осталось ни одного поселения без начального обучения.
Тем не менее, образование не стало массовым. Основными препятствиями были нехватка средств, дефицит квалифицированных учителей и изолированное расселение корейцев.
Наряду со школой важную роль в просвещении играла православная церковь. Священники, часто являвшиеся единственными грамотными людьми в деревнях, совмещали функции духовных наставников и учителей. Просвещение корейцев тесно переплеталось с миссионерской деятельностью. Обучение русскому языку нередко сопровождалось принятием православия. Как писал Н. М. Пржевальский, «важным средством обрусения корейцев должна стать православная пропаганда».
Так постепенно формировалась особая ветвь русско-корейского взаимодействия — слияние образовательных, культурных и духовных традиций, положившее начало уникальной истории российской корейской диаспоры.
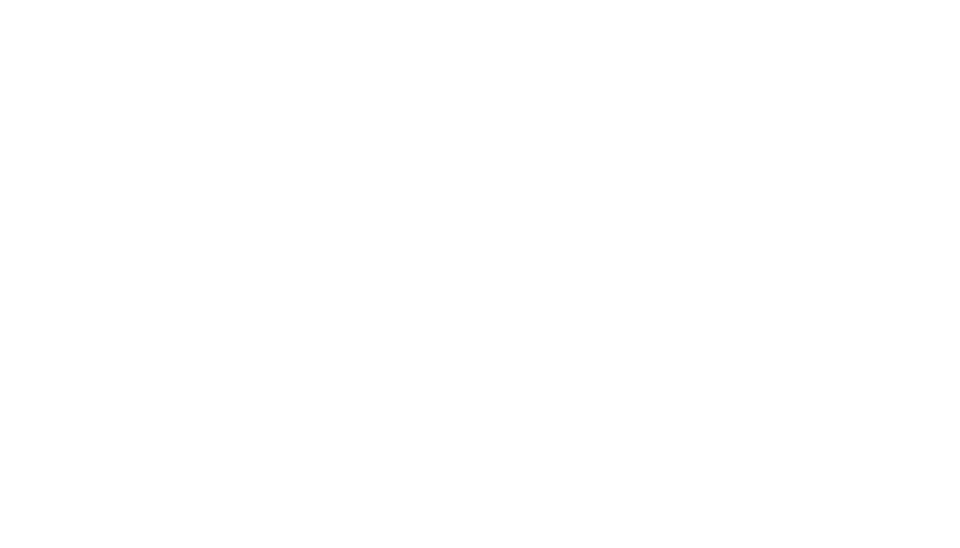
Владивосток. Архиепископ Евсевий (Никольский) в школе для корейских детей
Принятие православия и процесс адаптации.
Крещение в православие фактически приравнивалось к принятию российского подданства, и корейцы хорошо это понимали. Именно поэтому христианизация стала важным этапом в их адаптации. Представители духовенства, чиновники и благотворители активно способствовали распространению православия среди переселенцев, видя в этом путь к их приобщению к российской культуре и государственной системе.
Для самих корейцев принятие новой веры имело не только духовное, но и практическое значение. Православные корейцы могли рассчитывать на получение земли и иных гражданских прав, тогда как иностранные подданные были вынуждены батрачить или арендовать землю у зажиточных хозяев.
Однако обращение в православие не означало полного отказа от прежних религиозных представлений. До переселения в Россию корейцы исповедовали шаманизм, буддизм, конфуцианство и даосизм. Поэтому, даже приняв христианство, они сохраняли многие элементы национальной духовной культуры. Православие, приживаясь в корейской среде, постепенно обретало черты, свойственные корейской традиционности.
Исследователь Т. В. Волкова отмечала: «Корейцы выбрали для себя нейтральную позицию по отношению к религии окружающего населения. В семейно-бытовой сфере они продолжали придерживаться этики конфуцианства и обрядовой практики, основанной на традиционных верованиях. Вместе с тем старались не демонстрировать это открыто, особенно если жили в окружении других народов».
Христианизация внесла изменения и в имена корейцев. При крещении им давались русские имена, что облегчало общение в новой среде. Одно из первых упоминаний об этом приводит Б. Д. Пак, ссылаясь на архивные документы 1863–1864 гг.: старшина деревни Тизинхэ Чхве Унгык, приняв православие, стал именоваться Пётр Семёнов — по имени и отчеству крестного отца, русского офицера. В царский период среди корейцев встречались архаичные русские имена — Акулина, Ювеналий, Прасковья, Мефодий.
Переход на русские имена стал важным коммуникативным инструментом адаптации. Для русских чиновников и соседей корейские имена были труднопроизносимы и трудно запоминаемы, поэтому русские формы упрощали взаимодействие. Тем не менее большинство корейцев продолжали использовать параллельно и традиционные имена, сохраняя связь с родной культурой.
Политическая активность и национальное самосознание.
Во второй половине XIX века обострилась борьба между капиталистическими державами за влияние на Дальнем Востоке. Русско-японская война 1904–1905 годов завершилась поражением России и укреплением позиций Японии, что в итоге привело к аннексии Кореи в 1910 году. Страна была объявлена генерал-губернаторством Японской империи, а все корейцы — японскими подданными.
Рост японского давления вызвал новую волну миграции. Переселяясь в Россию, корейцы всё чаще проявляли гражданскую активность, создавали общественные объединения и даже вооружённые отряды — «Ыйбён» — для поддержки антияпонского сопротивления. Среди организаций, действовавших на Дальнем Востоке, выделялись «Кунминхве» (Корейское национальное общество, 1909 г.) и «Квонопхе» (Общество развития труда, 1911 г.). Однако с началом Первой мировой войны царские власти усилили давление на политические объединения, и их деятельность постепенно сошла на нет.
Поражение России в войне с Японией стало, по сути, крушением последнего оплота корейской автономии. Для многих переселенцев Владивосток оставался «уцелевшей цитаделью полунезависимости» — символом надежды на спасение от японского колониального гнёта.
Активное участие в антияпонском движении способствовало вовлечению корейцев в общественно-политическую жизнь России. Их борьба за независимость Кореи сочеталась с попытками самоопределения в социальной и экономической структуре российского общества.
Корейцы в промышленности и социальной жизни.
Начало XX века ознаменовалось ростом революционных настроений и многочисленными забастовками. Корейцы, трудившиеся на промышленных предприятиях, также участвовали в рабочих движениях, добиваясь равноправия с русскими рабочими. Так, 13 февраля 1906 года прекратили работу все корейские рабочие золотопромышленной компании Тимптона. Они требовали отпускать им продукты наравне с русскими и отменить дискриминационные циркуляры для «жёлтых лиц». В то время заработная плата корейцев была почти вдвое ниже, чем у русских.
Со временем корейцы всё активнее включались в индустриальное производство. Они работали на государственных и частных предприятиях, осваивали новые профессии, становились квалифицированными специалистами. Получившие образование занимали должности в администрации, торговых конторах и крупных фирмах.
Эти процессы знаменовали переход корейцев от традиционного сельскохозяйственного уклада к участию в современном производстве. Так постепенно складывалось новое социальное лицо российской корейской общины — трудолюбивой, образованной и активно вовлечённой в жизнь страны.
Крещение в православие фактически приравнивалось к принятию российского подданства, и корейцы хорошо это понимали. Именно поэтому христианизация стала важным этапом в их адаптации. Представители духовенства, чиновники и благотворители активно способствовали распространению православия среди переселенцев, видя в этом путь к их приобщению к российской культуре и государственной системе.
Для самих корейцев принятие новой веры имело не только духовное, но и практическое значение. Православные корейцы могли рассчитывать на получение земли и иных гражданских прав, тогда как иностранные подданные были вынуждены батрачить или арендовать землю у зажиточных хозяев.
Однако обращение в православие не означало полного отказа от прежних религиозных представлений. До переселения в Россию корейцы исповедовали шаманизм, буддизм, конфуцианство и даосизм. Поэтому, даже приняв христианство, они сохраняли многие элементы национальной духовной культуры. Православие, приживаясь в корейской среде, постепенно обретало черты, свойственные корейской традиционности.
Исследователь Т. В. Волкова отмечала: «Корейцы выбрали для себя нейтральную позицию по отношению к религии окружающего населения. В семейно-бытовой сфере они продолжали придерживаться этики конфуцианства и обрядовой практики, основанной на традиционных верованиях. Вместе с тем старались не демонстрировать это открыто, особенно если жили в окружении других народов».
Христианизация внесла изменения и в имена корейцев. При крещении им давались русские имена, что облегчало общение в новой среде. Одно из первых упоминаний об этом приводит Б. Д. Пак, ссылаясь на архивные документы 1863–1864 гг.: старшина деревни Тизинхэ Чхве Унгык, приняв православие, стал именоваться Пётр Семёнов — по имени и отчеству крестного отца, русского офицера. В царский период среди корейцев встречались архаичные русские имена — Акулина, Ювеналий, Прасковья, Мефодий.
Переход на русские имена стал важным коммуникативным инструментом адаптации. Для русских чиновников и соседей корейские имена были труднопроизносимы и трудно запоминаемы, поэтому русские формы упрощали взаимодействие. Тем не менее большинство корейцев продолжали использовать параллельно и традиционные имена, сохраняя связь с родной культурой.
Политическая активность и национальное самосознание.
Во второй половине XIX века обострилась борьба между капиталистическими державами за влияние на Дальнем Востоке. Русско-японская война 1904–1905 годов завершилась поражением России и укреплением позиций Японии, что в итоге привело к аннексии Кореи в 1910 году. Страна была объявлена генерал-губернаторством Японской империи, а все корейцы — японскими подданными.
Рост японского давления вызвал новую волну миграции. Переселяясь в Россию, корейцы всё чаще проявляли гражданскую активность, создавали общественные объединения и даже вооружённые отряды — «Ыйбён» — для поддержки антияпонского сопротивления. Среди организаций, действовавших на Дальнем Востоке, выделялись «Кунминхве» (Корейское национальное общество, 1909 г.) и «Квонопхе» (Общество развития труда, 1911 г.). Однако с началом Первой мировой войны царские власти усилили давление на политические объединения, и их деятельность постепенно сошла на нет.
Поражение России в войне с Японией стало, по сути, крушением последнего оплота корейской автономии. Для многих переселенцев Владивосток оставался «уцелевшей цитаделью полунезависимости» — символом надежды на спасение от японского колониального гнёта.
Активное участие в антияпонском движении способствовало вовлечению корейцев в общественно-политическую жизнь России. Их борьба за независимость Кореи сочеталась с попытками самоопределения в социальной и экономической структуре российского общества.
Корейцы в промышленности и социальной жизни.
Начало XX века ознаменовалось ростом революционных настроений и многочисленными забастовками. Корейцы, трудившиеся на промышленных предприятиях, также участвовали в рабочих движениях, добиваясь равноправия с русскими рабочими. Так, 13 февраля 1906 года прекратили работу все корейские рабочие золотопромышленной компании Тимптона. Они требовали отпускать им продукты наравне с русскими и отменить дискриминационные циркуляры для «жёлтых лиц». В то время заработная плата корейцев была почти вдвое ниже, чем у русских.
Со временем корейцы всё активнее включались в индустриальное производство. Они работали на государственных и частных предприятиях, осваивали новые профессии, становились квалифицированными специалистами. Получившие образование занимали должности в администрации, торговых конторах и крупных фирмах.
Эти процессы знаменовали переход корейцев от традиционного сельскохозяйственного уклада к участию в современном производстве. Так постепенно складывалось новое социальное лицо российской корейской общины — трудолюбивой, образованной и активно вовлечённой в жизнь страны.
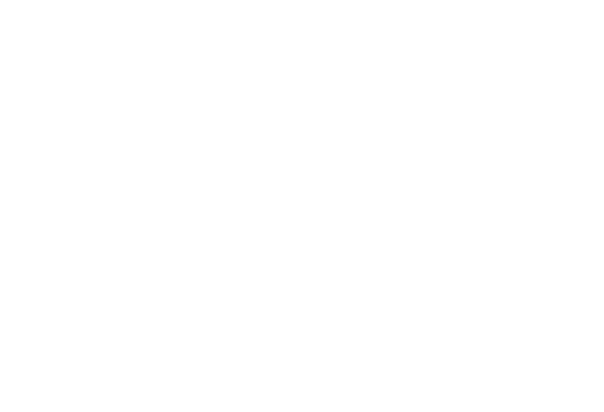
Группа корейских рабочих при постройке Уссурийской железной дороги
Социально-экономические изменения и становление трудовой культуры корейцевРоссийская империя с конца XIX века до прихода большевиков к власти находилась на переходном этапе — от аграрного общества к индустриальному. В это же время Корея оставалась преимущественно аграрной страной, переживавшей глубокий кризис натурального хозяйства и социально-экономическую стагнацию. Несмотря на появление в доколониальной Корее первых предприятий мануфактурного типа, они концентрировались главным образом в Сеуле, крупных провинциальных центрах и портовых городах, открытых для иностранной торговли.
Основная масса населения, особенно в северных провинциях, откуда происходило большинство переселенцев в российское Приморье, имела навыки преимущественно в земледелии и рыболовстве.
Переход корейцев на специальности, связанные с промышленным производством, стал важным этапом их социально-культурной адаптации и привёл к ряду глубоких изменений.
Во-первых, произошли изменения в сознании. У корейцев формировалось коллективное мышление, чувство взаимопомощи и «локтя» в процессе труда. Особенно ярко это проявилось во время рабочих забастовок, когда они отстаивали коллективные интересы.
Во-вторых, повысился уровень профессиональных знаний. Корейцы осваивали новые профессии, учились работать со сложным оборудованием и механизмами, расширяли свою специализацию.
В-третьих, в результате этого стала формироваться высокопрофессиональная прослойка рабочих и инженерно-технических специалистов, что стало значительным шагом от традиционного земледельческого уклада.
В-четвёртых, менялся внешний облик и повседневный быт корейцев. В условиях приисков, шахт и фабрик традиционная одежда оказывалась неудобной, и корейцы постепенно переходили на русскую рабочую одежду.
Традиционный мужской костюм в Корее состоял из запашной куртки (чогори) и широких штанов (паджи), на ногах носили белые матерчатые носки (посон). В такой одежде трудиться на шахтах или в промышленных мастерских было крайне неудобно, поэтому замена её на практичную русскую форму стала естественным процессом.
Тем не менее на промышленных работах была занята лишь часть корейского населения Дальнего Востока. Большинство по-прежнему занималось земледелием. Это объяснялось тем, что в общей структуре экономики Российской империи земледельческий труд продолжал играть ключевую роль, а освоение земли оставалось основным источником существования переселенцев.
Основная масса населения, особенно в северных провинциях, откуда происходило большинство переселенцев в российское Приморье, имела навыки преимущественно в земледелии и рыболовстве.
Переход корейцев на специальности, связанные с промышленным производством, стал важным этапом их социально-культурной адаптации и привёл к ряду глубоких изменений.
Во-первых, произошли изменения в сознании. У корейцев формировалось коллективное мышление, чувство взаимопомощи и «локтя» в процессе труда. Особенно ярко это проявилось во время рабочих забастовок, когда они отстаивали коллективные интересы.
Во-вторых, повысился уровень профессиональных знаний. Корейцы осваивали новые профессии, учились работать со сложным оборудованием и механизмами, расширяли свою специализацию.
В-третьих, в результате этого стала формироваться высокопрофессиональная прослойка рабочих и инженерно-технических специалистов, что стало значительным шагом от традиционного земледельческого уклада.
В-четвёртых, менялся внешний облик и повседневный быт корейцев. В условиях приисков, шахт и фабрик традиционная одежда оказывалась неудобной, и корейцы постепенно переходили на русскую рабочую одежду.
Традиционный мужской костюм в Корее состоял из запашной куртки (чогори) и широких штанов (паджи), на ногах носили белые матерчатые носки (посон). В такой одежде трудиться на шахтах или в промышленных мастерских было крайне неудобно, поэтому замена её на практичную русскую форму стала естественным процессом.
Тем не менее на промышленных работах была занята лишь часть корейского населения Дальнего Востока. Большинство по-прежнему занималось земледелием. Это объяснялось тем, что в общей структуре экономики Российской империи земледельческий труд продолжал играть ключевую роль, а освоение земли оставалось основным источником существования переселенцев.
Список использованной литературы.
1. Волкова Т.В. Российские корейцы. К вопросу о самоидентификации // ЭО. – М., 2004. – № 4. – С. 27-42.
2. Граве В.В. Китайцы, корейцы и японцы Приамурья / Труды Командированной по Высочайшему повелению Амурской Экспедиции. – СПб.: Типография В.Ф.Киршбаума, 1912. Вып. XI. – 489 с.
3. Калишевский М.А. Придет ли конец скитаниям «корё сарам»? О миграции среднеазиатских корейцев в Россию. Часть первая // http://www.arirang.ru/news/2007/07021.htm
4. Ким Г.Н. История просвещения корейцев России и Казахстана. Вторая половина XIX в. – 2000 г. – Алматы: Издательство КазГУ им Аль-Фараби, 2000. – 369 с.
5. Ким Г.Н. Республика Корея. – Алматы: Дайк-Пресс, 2010. – С. 113-118.
6. Ким П.Г. Корейцы Республики Узбекистан: история и современность. – Ташкент: Ўзбекистон, 1993. – 176 с.
7. Ким Сын Хва. Очерки по истории советских корейцев. – Алма-Ата: Наука, 1965. – С.62.
8. Корейцы в СССР. Материалы советской печати 1918-1937 гг. / Сост. Ю.В. Ванин, Б.Б. Пак, Б.Д. Пак. – М.: Институт востоковедения РАН, 2004. – С.140.
9. Кузин А.Т. Дальневосточные корейцы: жизнь и трагедия судьбы (документально-исторический очерк). – Южно-Сахалинск: Сахалинское отделение Дальневосточного книжного издательства, 1993. – 368 с.
10. Ланьков А.Н. Корейцы СНГ, или Необыкновенные приключения конфуцианцев в России // http://old.russ.ru/politics/20020109-lan.html
11. Ланьков А.Н. Корейцы СНГ: страницы истории // http://okoree.narod.ru/d25.htm
12. Новиков К. История депортации корейцев в Центральную Азию // http://mytashkent.uz/2007/08/31/istoriya-deportatsii-koreytsev-v-sentralnu-yu-aziyu/
13. Пак Б.Д., Бугай Н.Ф. 140 лет в России. Очерк истории российских корейцев. – М.: ИВ РАН, 2004. – 464 с.
14. Пак Б.Д. Корейцы Российской империи (Дальневосточный период). – М.: Издательство МГУ, 1993. – 261 с.
15. Сагитова О.И., Прозорова Г.В. Миссионерские школы для корейских детей на территории Приморского края (вторая половина 19 в. – начало 20 в.) // Известия корееведения в Центральной Азии. – Алматы, 2007. – № 5 (13). – С. 181-187.
1. Волкова Т.В. Российские корейцы. К вопросу о самоидентификации // ЭО. – М., 2004. – № 4. – С. 27-42.
2. Граве В.В. Китайцы, корейцы и японцы Приамурья / Труды Командированной по Высочайшему повелению Амурской Экспедиции. – СПб.: Типография В.Ф.Киршбаума, 1912. Вып. XI. – 489 с.
3. Калишевский М.А. Придет ли конец скитаниям «корё сарам»? О миграции среднеазиатских корейцев в Россию. Часть первая // http://www.arirang.ru/news/2007/07021.htm
4. Ким Г.Н. История просвещения корейцев России и Казахстана. Вторая половина XIX в. – 2000 г. – Алматы: Издательство КазГУ им Аль-Фараби, 2000. – 369 с.
5. Ким Г.Н. Республика Корея. – Алматы: Дайк-Пресс, 2010. – С. 113-118.
6. Ким П.Г. Корейцы Республики Узбекистан: история и современность. – Ташкент: Ўзбекистон, 1993. – 176 с.
7. Ким Сын Хва. Очерки по истории советских корейцев. – Алма-Ата: Наука, 1965. – С.62.
8. Корейцы в СССР. Материалы советской печати 1918-1937 гг. / Сост. Ю.В. Ванин, Б.Б. Пак, Б.Д. Пак. – М.: Институт востоковедения РАН, 2004. – С.140.
9. Кузин А.Т. Дальневосточные корейцы: жизнь и трагедия судьбы (документально-исторический очерк). – Южно-Сахалинск: Сахалинское отделение Дальневосточного книжного издательства, 1993. – 368 с.
10. Ланьков А.Н. Корейцы СНГ, или Необыкновенные приключения конфуцианцев в России // http://old.russ.ru/politics/20020109-lan.html
11. Ланьков А.Н. Корейцы СНГ: страницы истории // http://okoree.narod.ru/d25.htm
12. Новиков К. История депортации корейцев в Центральную Азию // http://mytashkent.uz/2007/08/31/istoriya-deportatsii-koreytsev-v-sentralnu-yu-aziyu/
13. Пак Б.Д., Бугай Н.Ф. 140 лет в России. Очерк истории российских корейцев. – М.: ИВ РАН, 2004. – 464 с.
14. Пак Б.Д. Корейцы Российской империи (Дальневосточный период). – М.: Издательство МГУ, 1993. – 261 с.
15. Сагитова О.И., Прозорова Г.В. Миссионерские школы для корейских детей на территории Приморского края (вторая половина 19 в. – начало 20 в.) // Известия корееведения в Центральной Азии. – Алматы, 2007. – № 5 (13). – С. 181-187.
